Образ лошади является одним из самых часто встречающихся в произведениях Владимира Маяковского – да и что уж говорить, практически каждому хотя бы по школьной программе известно хрестоматийное стихотворение “Хорошее отношение к лошадям” (впрочем, учитывая то, что разбор текста официальные пособия последних десятилетий предлагают проводить в 7 или 6 классе, запомниться оно может не всем). Тем не менее, мы не будем ограничиваться плоским образом поэта-друга животных (“Для зверей приятель я хороший, Каждый стих мой душу зверя лечит…” невольно звучит где-то в глубине подсознания). В нашей статье мы постараемся разобраться в происхождении образа лошади у Маяковского, выясним, при чём же здесь Хлебников и Достоевский, разберемся в развитии и функционировании образа, а также посмотрим, в рамках каких (спойлер – самых разных!) тем и контекстов он возникает, и, в конце концов, постараемся понять, в чём принципиальная разница между лошадью, конем и мерином.
Но для начала немного теории! Говоря о бытовании образа лошади и множества его вариантов у Маяковского (попробуйте произнести эту скороговорку: лошадь–конь–коняга–кобыла–кляча–мерин–рысак–жеребенок–пегас–скакун–битюг–ломовая–пони), мы отталкиваемся от нескольких важных базовых установок, которые, конечно, применимы не только в нашем отдельно взятом в сферический вакуум исследовании, но и в более широком академическом контексте:
Во-первых, поэтическое слово рассматривается нами как слово с объявленной ценностью – то есть, мы считаем, что выбор того или иного обозначения, или одного слова из ряда семантически пересекающихся с ним синонимов внутри поэтического текста не является случайным. Поэт, как носитель языка, осознаёт его ценность, равно как и вес своего поэтического высказывания – и поэтому и употребление конкретного слова, и упоминание (пусть и совсем эпизодическое) какого-то образа не будет случайным.
Во-вторых, мы изначально говорим об образе лошади в стихах Маяковского как об образе с повышенной смысловой нагрузкой, опираясь на два простых, но показательных базовых критерия – его регулярность и наличие авторского контекста.
В частотности в нашем случае сомневаться не приходиться – в собранном нами “лошадином” корпусе оказалось более 60 поэтических текстов, включающих прямое и развернутое либо лишь эпизодическое упоминание этого образа в разных контекстах. Кроме того, несколько раз он возникает в творчестве автора в сильной позиции (например, в поэме “Облако в штанах” (1914-1915), стихотворении “Разговор с фининспектором о поэзии”(1926), а для некоторых произведений вообще является ядром образной системы – это, например, стихотворения “Конь-огонь” (1927) и уже упомянутое нами в начале “Хорошее отношение к лошадям” (1918).
Не менее важным фактором становится и то, что образ лошади занимает важное место в творчестве двух знаковых для Маяковского авторов – Достоевского и Хлебникова.
Не погружаясь в хлебниковский контекст подробно, лишь отметим (ссылаясь на Виллема Вестстейна), что только одно только слово “конь” и его производные встречаются у Хлебникова более 150 раз, а сам образ порождает в его поэзии “целую сеть значений”. Маяковский с самого начала своей поэтической работы высоко ценил Хлебникова как творца и как новатора, выступал с его стихотворениями на сцене и цитировал их в своих публицистических текстах. В статье, выпущенной на смерть Хлебникова, он дал такую показательную характеристику его фигуре:
“Биография Хлебникова равна его блестящим словесным построениям. Его биография — пример поэтам и укор поэтическим дельцам.”
Немаловажное значение в жизни Маяковского играл и Достоевский – причём ещё с ранних лет. Как замечает в своей статье Вадим Кожинов, “характерно, что в одной записке из полицейской камеры юный Маяковский просил прислать ему «Капитал» Маркса и романы Достоевского” – зная биографию автора “Преступления и наказания”, эта история звучит практически как анекдот. В той же статье Кожинов цитирует слова Лили Брик о бесспорной любви Маяковского к прозе Достоевского.
В конце концов, даже не зная ничего из упомянутых фактов, очень сложно не заметить схожесть между сюжетной ситуацией “Хорошего отношения к лошадям” и первым сном Родиона Раскольникова.
Итак, мы определили наши базовые установки и уже окружили образ нашей четвероногой некоторым контекстом. Теперь взглянем, в рамках каких же тем Маяковский прибегает к использованию образа лошади?
Именно в таком контексте он возникает в одном из пяти самых ранних стихотворений Маяковского “Из улицы в улицу” (1913), становясь частью описания урбанистического пейзажа, строящегося на антропоморфных и зооморфных метафорах. Тот же тематический контекст мы видим, например, в стихотворениях “Шумики, шумы и шумищи” и “Моё к этому отношение”.
Шумики, шумы, шумищи [1913]
По эхам городов проносят шумы
на шепоте подошв и на громах колес,
а люди и лошади — это только грумы,
следящие линии убегающих кос.
Проносят девоньки крохотные шумики.
Ящики гула пронесет грузовоз.
Рысак прошуршит в сетчатой тунике.
Трамвай расплещет перекаты гроз.
Все на площадь сквозь туннели пассажей
плывут каналами перекрещенных дум,
где мордой перекошенный, размалеванный сажей
на царство базаров коронован шум.
Моё к этому отношение (1915)
<…>
Кони ли, цокая, по асфальту мчатся,
шарканье пешеходов ли подвернется под взгляд ему,
а ему все кажется: «Цаца! Цаца!» —
кричат ему, и все ему нравится, проклятому.
<…>
Образ лошади может становиться частью описания деревни и, в частности, частью образа некоего “простого мужика”, крестьянина, представителя сельского трудового сословия; он связан с описанием его повседневных трудностей, проблем, ситуации социального неравенства
Буржуй, / прощайся с приятными деньками — // добьем / окончательно / твердыми деньгами (1924)
Мы хорошо знакомы с совзнаками,
со всякими лимонами,
лимардами всякими.
Как было?
Пала кобыла.
У жёнки
поизносились одежонки.
Пришёл на конный
и стал торговаться.
Кони
идут
миллиардов по двадцать.
Как быть?
Пошёл крестьянин
совзнаки копить.
Денег накопил —
неописуемо!
Хоть сиди на них:
целая уйма!
Сложил совзнаки в наибольшую из торб
и пошел,
взваливши торбу на горб.
Пришел к торговцу:
— Коня гони!
Торговец в ответ:
— Подорожали кони!
Копил пока —
конь
вздорожал
миллиардов до сорока. —
Не купить ему
ни коня, ни ситца.
Одно остается —
стоять да коситься.
Сорок набрал мужик на конягу.
А конь
уже
стоит сотнягу.
Пришёл с сотней, —
а конь двести.
— Заплатите, мол,
и на лошадь лезьте! —
И ушел крестьянин
не солоно хлебавши,
неся
на спине
совзнак упавший.
Объяснять надо ли?
Горе в том,
что совзнаки падали.
Теперь
разносись по деревне гул!
У нас
пустили
твердую деньгу́.
Про эти деньги
и объяснять нечего.
Все, что надо
для удобства человечьего.
Трешница как трешница,
серебро как серебро.
Хочешь — позванивай
хочешь — ставь на ребро.
Теперь —
что серебро,
что казначейский билет —
одинаково обеспечены:
разницы нет.
Пока
до любого рынка дойдешь —
твои рубли
не падут
ни на грош.
А места занимают
меньше точки.
Донесёшь
богатство
в одном платочке.
Не спеша
приторговал себе коня,
купил и поехал,
домой гоня.
На оставшуюся
от размена
лишку —
ситцу купил
и взял подмышку.
Теперь
возможно,
если надобность есть,
весь приход-расход
заранее свесть.
Здесь разные варианты образа лошади выступают в противоположных качествах:
- С одной стороны, как способ ярко охарактеризовать идеологического оппонента, или, шире, некоего чужого, сопротивляющегося или не принимающего систему ценностей лирического героя
Долой! (1928)
<…>
Аж хвост
отрастишь,
получаючи аванс,
аж станешь
кобылой пегою.
<…> - С другой стороны, лошадиные образы могут нести позитивную семантику направленного движения вперед, футуристической устремленности в будущее, выражать интенцию к движению вперед
Наш марш (1917)
<…>
Зеленью ляг, луг,
выстели дно дням.
Радуга, дай дуг
лет быстролётным коням.
<…>
Последняя Петербургская сказка [1916]
Стоит император Петр Великий,
думает:
«Запирую на просторе я!» —
а рядом
под пьяные клики
строится гостиница «Астория».
Сияет гостиница,
за обедом обед она
дает.
Завистью с гранита снят,
слез император.
Трое медных
слазят
тихо,
чтоб не спугнуть Сенат.
Прохожие стремились войти и выйти.
Швейцар в поклоне не уменьшил рост.
Кто-то
рассеянный
бросил:
«Извините»,
наступив нечаянно на змеин хвост.
Император,
лошадь и змей
неловко
по карточке
спросили гренадин1.
Шума язык не смолк, немея.
Из пивших и евших не обернулся ни один.
И только
когда
над пачкой соломинок
в коне заговорила привычка древняя,
толпа сорвалась, криком сломана:
— Жует!
Не знает, зачем они.
Деревня!
Стыдом овихрены шаги коня.
Выбелена грива от уличного газа.
Обратно
по Набережной
гонит гиканье
последнюю из петербургских сказок.
И вновь император
стоит без скипетра.
Змей.
Унынье у лошади на морде.
И никто не поймет тоски Петра —
узника,
закованного в собственном городе
Именно здесь будут заметны чувственность, боль, переживание, проявления сострадания и любви. В качестве примеров можно привести (конечно же!) «Хорошее отношение к лошадям» (1918) или, например, фрагмент из поэмы «Человек» (1916-1917):
Тонут гении, курицы, лошади, скрипки.
Тонут слоны.
Мелочи тонут.
В горлах,
в ноздрях,
в ушах звон его липкий.
«Спасите!»
Места нет недоступного стону.
Мы видим, что образ лошади в поэмах Маяковского возникает в самых разных тематических контекстах и становится частью разноплановых высказываний. Но можем ли мы говорить о нём как о некоем универсальном инструменте?
Думаем, что нет! На наш взгляд, в нашем случае правильнее говорить не об универсальности образа, но о его продуктивности для творческого словаря Маяковского. Многократно повторяясь и появляясь в текстах во множестве различных вариантов, он плотно входит в поэтический словарь Маяковского, окружая себя не каким-то одним, но целой сетью значений, о которой мы уже упоминали в контексте Хлебниковских коней.
Несмотря на то, что мы можем проследить некоторые взаимосвязи между отдельными “подвидами” лошади и определенными значениями, выстроить систему однозначных соответствий всё равно не получается – в какой-то момент мы сталкиваемся с тем, что некоторые тексты начинают выбиваться из существующей модели.
Например, образ коня действительно часто оказывается связан с футуристическим и/или технократическим началом и описанной выше семантикой целеустремленного и целенаправленного движения (эти черты можно увидеть и в приведенном самом начале довольно грубо обрисованном урбанистическом пейзаже, а также, например, в уже приведенном “Нашем марше” или стихотворении “Мексика – Нью-Йорк” (1926)1). В то же время образ коня может возникать и с другим значением – например, в стихотворении “Горб” (1923): “Чуть плелся конь. / Дрожали вожжи. / Извозчик был горбат”, – урбанизации и целенаправленного движения тут нет и близко.
Ещё один яркий пример – образ мерина. Он входит в корпус текстов Маяковского всего пять раз, поэтому для наглядности фрагментарно приведём их все:
Юбилейное (1924)
Да не Ольга!
из письма Онегина к Татьяне.
― Дескать,
муж у вас
дурак
и старый мерин,
я люблю вас,
будьте обязательно моя,
я сейчас же
утром должен быть уверен,
что с вами днем увижусь я.
«Даешь изячную жизнь» (1927)
Даже
мерин сивый
желает
жизни изящной
и красивой.
Вертит
игриво
хвостом и гривой.
Вертит всегда,
но особо пылко ―
если
навстречу
особа-кобылка.
Хорошо! (X, 1927)
Леди,
спросите
у мерина сивого ―
он
как Мурманск
разизнасиловал.
Долой! (1929)
Кое-кто
и сегодня
мерином сивым
подвирает,
закусив
поэтические удила́
Вот для чего мужику самолет [1925]
Мужик
запрягает
гнедого мерина,
едет
искать
жилье землемерино.
Заметно, что в первых четырёх случаях образ сопровождают скорее негативные коннотации (которые, безусловно, только усиливаются при использовании устойчивого выражения “сивый мерин”). В то же время в последнем примере никакой негативной коннотации с мерином увидеть не удаётся. Если следовать описанному нами выше распределению, то мерин в этом тексте – часть социально-бытового описания образа крестьянина и его быта. И никакого негатива в сторону подневольного животного!
Итак, мы видим, что образ лошади в текстах Маяковского совсем не так прост – как минимум в отношении окружающих его значений и отдельных употреблений всё ещё остаётся лакуна для будущих исследований. С уверенностью мы можем говорить об одном — “лошадиная” тема критически важна как для Маяковского-поэта, так и для Маяковского-человека. Сопровождая его на протяжении всего творческого пути (последний вводящий этот образ текст датируется 1930 годом), лошадь без преувеличения становится его тотемным животным.
Вестстейн Виллем. Кони Хлебникова // В. Хлебников: pro et contra, антология. Т. 2. СПб.: РХГА, 2018. С. 504-510.
Вопросы литературы. 1966. № 9. 257 с.
Маяковский В. В. Полное собрание сочинений в 13 томах. М.: ГИХЛ, 1955-1961. Т. 1-10, 12.
Михайлова Г. П. Многосмысленность известных текстов: «хорошее отношение к лошадям» В. В. Маяковского // Грани культуры серебряного века: сборник научных статей. Вильнюс: Издательство Литовского эдукологического университета, 2015. С. 238-249.
Харджиев Н. И., Тренин В. В. Поэтическая культура Маяковского. М.: Искусство, 1970. 328 с.
Текст: Андрей Авилов
Редактура: Стася Варнина
Иллюстрация: фото «Владимир Маяковский со Скотиком», Александр Родченко. 1924 г. (Источник: russiainphoto.ru)
Не только о лошадиных друзьях Маяковского читайте также:
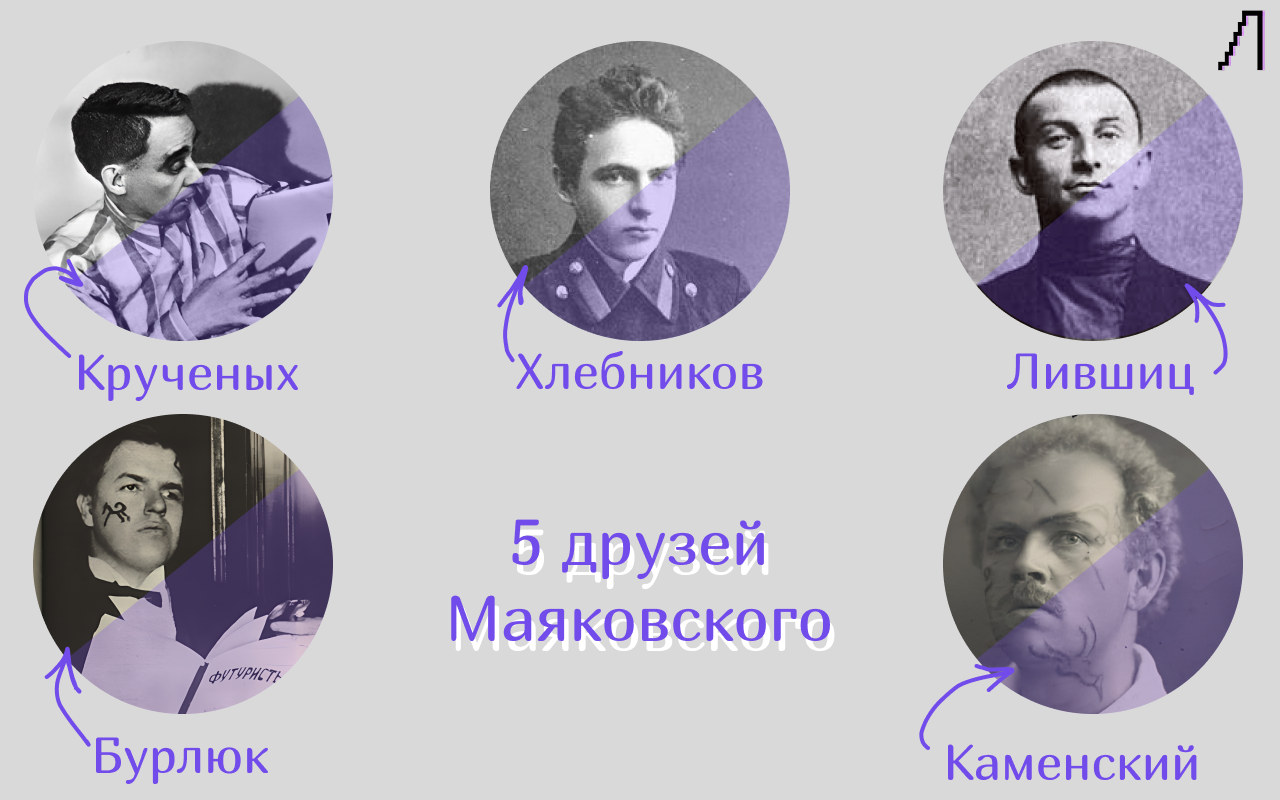
5 друзей Маяковского
Группа футуристов «Гилея», в деятельности которой участвовал Владимир Маяковский, сформировалась в 1910-е годы; позднее она была переформатирована, войдя в творческое объединение авангардистов «Союз молодёжи», и окончательно распалась к середине 1910-х. Свои художественные принципы группа изложила в манифесте «Пощёчина общественному вкусу» (1912). Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми её участниками и друзьями Маяковского.

