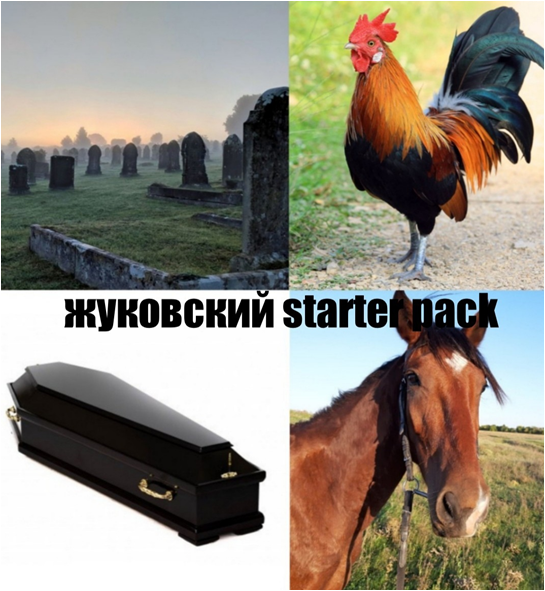
Современники восторженно приняли «Людмилу» (Гнедич, Шевырев, Вигель, М. Дмитриев и др.). «Упитанные литературою древних и французскою, ее покорною подражательницею , — пишет Вигель, — (...) мы в выборах его [Жуковского] увидели нечто чудовищное. Мертвецы, привидения, чертовщина, убийства, освещаемые луною, да это все принадлежит к сказкам да разве английским романам; вместо Геро, с нежным трепетом ожидающей утопающего Леандра, представить нам бешено страшную Ленору со скачущим трупом любовника. Надобен был его чудный дар, чтобы заставить нас не только без отвращения читать его баллады, но, наконец, даже полюбить их. Не знаю, испортил ли он наш вкус; по крайней мере создал нам новые ощущения, новые наслаждения. Вот и начало у нас романтизма» (Вигель Ф. Ф. Воспоминания. М., 1864. Ч. 3. С. 135— 136).
Жуковского можно назвать Кингом своего времени: он собрал все самые главные ужасы и страшилки английского романтизма в своих балладах. Ф. Ф. Вигель вспоминает о реакции современников на публикацию “Людмилы”: “Мертвецы, привидения, чертовщина, убийства, освещаемые луною, да это все принадлежит к сказкам да разве английским романам (…) Надобен был его чудный дар, чтобы заставить нас не только без отвращения читать его баллады, но, наконец, даже полюбить их”*. Поэтому “стартовым набором” Жуковского можно назвать четыре основных атрибута потустороннего мира: кладбище как главный топос, ужасающий крик петуха, гроб жениха и конь, несущий мертвецов да невест.
*Вигель Ф. Ф. Воспоминания. М., 1864. Ч. 3. С. 135— 136.


Жил бы Жуковский в десятых годах XXI века, его баллады были бы настоящими бестселлерами. Он написал о любви прекрасных девиц к мертвым женихам и вурдалакам еще до того, как это стало мейнстримом! Мода на вампиров и ночных чудовищ была на пике популярности в начале нашего столетия, и баллады Жуковского имели бы все шансы побить рекорд продаж “Сумерек”!

«Людмила» (1808), Светлана (1813).
Дискуссия по проблемам народности (Катенин-Жуковский).
Дискуссия по проблемам народности (Катенин-Жуковский).
В 1816— 1820 годах между Гнедичем и Грибоедовым разгорелся горячий спор из-за публикации сделанного Павлом Катениным перевода баллады Бюргера “Ленора” под названием «Ольга» . Пушкиным об этом споре писал: «...Катенин (...) вздумал показать нам Ленору в энергической красоте ее первобытного создания; он написал Ольгу. Но сия простота и даже грубость выражений, сия сволочь, заменившая воздушную цепь теней, сия виселица, вместо сельских картин, озаренных летнею луною, неприятно поразили непривычных читателей (...)». Спорили они о том, как нужно писать балладу. А Жуковский трижды переводил балладу - как “Людмилу”, “Светлану” и “Ленору”.

Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди.
В альбоме С. Д.Полторацкого находится текст баллады под названием «“Ведьма”. Баллада. Перевод В. А. Жуковского», он предназначался для публикации в МТ (в разделе «Изящная словесность», то есть беелетристика). Весь текст здесь зачеркнут красными чернилами, внизу надпись цензора: «Баллада “Старушка”, ныне явившаяся “Ведьмой”, подлежит вся запрещению , как пьеса, в которой дьявол торжествует над церковью, над Богом».
В альбоме С. Д.Полторацкого находится текст баллады под названием «“Ведьма”. Баллада. Перевод В. А. Жуковского», он предназначался для публикации в МТ (в разделе «Изящная словесность», то есть беелетристика). Весь текст здесь зачеркнут красными чернилами, внизу надпись цензора: «Баллада “Старушка”, ныне явившаяся “Ведьмой”, подлежит вся запрещению , как пьеса, в которой дьявол торжествует над церковью, над Богом».
В конце 1814— начале 1815 г. Жуковский представил балладу, уже включенную им в план собрания сочинений, в цензурный комитет, где ее не пропустили. 12 апреля 1815 г. он писал А. И. Тургеневу: “постарайся, чтобы того же не сделалось в Петербурге”, но ее и там печатать запретили. Хорошо известен, например, факт чтения поэтом баллады во дворце, во время которого, по легенде, одной из фрейлин стало дурно. Эту легенду имеет, вероятно, в виду один из героев «Комедии против комедии» М. Загоскина, представленной 3 ноября 1815 г. в Санкт-Петербурге, рассказывая, что у всех слушателей “волосы стали дыбом; в половине чтения сделалось многим дурно, а под конец одна дама упала в обморок и лежит теперь при смерти в горячке”*. Баллада была настолько “бесовской” и страшной, что ее и печатать то сразу не разрешили...
*Загоскин М. Комедия против комедии или Урок волокитам. СПб., 1816. С. 38

Здесь вместо дня была мне ночи мгла;
Я кровь младенцев проливала,
Власы невест в огне волшебном жгла
И кости мертвых похищала.
И казнь лукавый обольститель мой
Уж мне готовит в адской злобе;
И я, смутив чужих гробов покой,
В своем не успокоюсь гробе.
Ах! не забудь моих последних слов:
Мой труп, обвитый пеленою,
Мой гроб, мой черный гробовой покров
Ты окропи святой водою.
Я кровь младенцев проливала,
Власы невест в огне волшебном жгла
И кости мертвых похищала.
И казнь лукавый обольститель мой
Уж мне готовит в адской злобе;
И я, смутив чужих гробов покой,
В своем не успокоюсь гробе.
Ах! не забудь моих последних слов:
Мой труп, обвитый пеленою,
Мой гроб, мой черный гробовой покров
Ты окропи святой водою.
Чтобы понять этот мем, достаточно открыть текст произведения и прочитать, как старушка решила умолить все свои грехи:
Здесь вместо дня была мне ночи мгла;
Я кровь младенцев проливала,
Власы невест в огне волшебном жгла
И кости мертвых похищала.
Ах! не забудь моих последних слов:
Мой труп, обвитый пеленою,
Мой гроб, мой черный гробовой покров
Ты окропи святой водою.
Здесь вместо дня была мне ночи мгла;
Я кровь младенцев проливала,
Власы невест в огне волшебном жгла
И кости мертвых похищала.
Ах! не забудь моих последних слов:
Мой труп, обвитый пеленою,
Мой гроб, мой черный гробовой покров
Ты окропи святой водою.
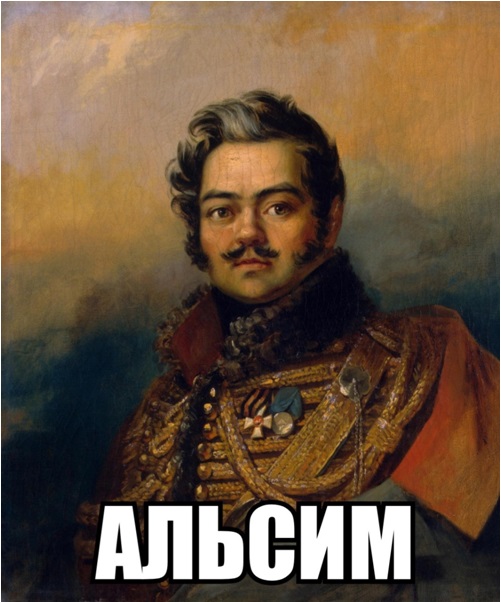
Алина и Альсим
(1784— 1839) — Армянин — упоминается в документах этого литературного общества (Арзамас-2. T. 1. С. 463). Много реминисценций из этой баллады встречается у Пушкина. Например, высказывается предположение об «арзамасской» перелицовке баллады «Алина и Альсим» в «Черную шаль» (1820). Ср.:
В покои отдаленный вхожу я один...
Неверную деву лобзал армянин.
Не взвидел я света; булат загремел...
Прервать поцелуя злодей не успел
(1784— 1839) — Армянин — упоминается в документах этого литературного общества (Арзамас-2. T. 1. С. 463). Много реминисценций из этой баллады встречается у Пушкина. Например, высказывается предположение об «арзамасской» перелицовке баллады «Алина и Альсим» в «Черную шаль» (1820). Ср.:
В покои отдаленный вхожу я один...
Неверную деву лобзал армянин.
Не взвидел я света; булат загремел...
Прервать поцелуя злодей не успел
Баллада Жуковского «Алина и Альсим» неоднократно служила источником для оригинального и пародийного литературного творчества. Так, арзамасское прозвище Д.В. Давыдова (1784— 1839) — Армянин — упоминается в документах этого литературного общества. Много реминисценций из этой баллады встречается у Пушкина. Например, высказывается предположение об «арзамасской» перелицовке баллады «Алина и Альсим» в «Черную шаль» (1820):
В покои отдаленный вхожу я один...
Неверную деву лобзал армянин.
Не взвидел я света; булат загремел...
Прервать поцелуя злодей не успел
В покои отдаленный вхожу я один...
Неверную деву лобзал армянин.
Не взвидел я света; булат загремел...
Прервать поцелуя злодей не успел

Задумчивый, он часто по кладбищу
При склоне дня ходил среди крестов:
Его тоске давало пищу
Спокойствие гробов…
При склоне дня ходил среди крестов:
Его тоске давало пищу
Спокойствие гробов…
В XXI веке люди решают свои проблемы на приеме у психотерапевта, но Эдвин из баллады Жуковского “Эльвина и Эдвин” нашел выход бюджетнее и романтичнее:
Задумчивый, он часто по кладбищу
При склоне дня ходил среди крестов:
Его тоске давало пищу
Спокойствие гробов.
Задумчивый, он часто по кладбищу
При склоне дня ходил среди крестов:
Его тоске давало пищу
Спокойствие гробов.

Рыцарь Тогенбург
Сладко мне твоей сестрою,
Милый рыцарь, быть;
Но любовию иною
Не могу любить:
При разлуке, при свиданье
Сердце в тишине —
И любви твоей страданье
Непонятно мне…
Сладко мне твоей сестрою,
Милый рыцарь, быть;
Но любовию иною
Не могу любить:
При разлуке, при свиданье
Сердце в тишине —
И любви твоей страданье
Непонятно мне…
Пусть сейчас в нашей жизни рыцаря и не встретить, но френдзона она и в XIX веке френдзона. В балладе “Рыцарь Тогенбург” рассказывается пародийная история благородного рыцаря, любовь которого не приняла прекрасная Дама. Объектом пародии постепенно становится именно эпохальный тип рыцаря, чей первообраз сформирован балладой Шиллера «Ritter Toggenburg» в переводе Жуковского.
«Сладко мне твоей сестрою
Милый рыцарь, быть;
Но любовию иною
Не могу любить:
При разлуке, при свиданье
Сердце в тишине —
И любви твоей страданье
Непонятно мне».
«Сладко мне твоей сестрою
Милый рыцарь, быть;
Но любовию иною
Не могу любить:
При разлуке, при свиданье
Сердце в тишине —
И любви твоей страданье
Непонятно мне».

«Лесной царь»
Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
К отцу, весь издрогнув, малютка приник;
Обняв, его держит и греет старик.
«Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?» —
«Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:
Он в темной короне, с густой бородой». —
«О нет, то белеет туман над водой».
Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
К отцу, весь издрогнув, малютка приник;
Обняв, его держит и греет старик.
«Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?» —
«Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:
Он в темной короне, с густой бородой». —
«О нет, то белеет туман над водой».
М. Цветаева в эссе «Два “Лесных царя”» приравнивает балладу Гёте к мифу, а «гениальную вольную передачу» Жуковского к сказке и объясняет, что у Жуковского «два Лесных Царя: безвозрастный жгучий демон и величественный старик, но не только Лесных царя — два, и отца — два: молодой ездок и опять-таки старик. Две вариации на одну тему, два видения одной вещи, два свидетельства одного видения. Каждый вещь увидел из собственных глаз (...)” Отсюда расхождения между объектом, который видят отец и ребенок: для отца это “туман белеет над водой”, а для дитя - это ужас, от которого тот и погибает.
*Цветаева Марина. Два «Лесных царя» // Зарубежная поэзия. Т. 2. С. 535— 541
*Цветаева Марина. Два «Лесных царя» // Зарубежная поэзия. Т. 2. С. 535— 541
Автор текста и иллюстрации: Анна Кострова


No responses yet