По роду своих литературоведческих занятий Всеволод Алексеевич Грехнёв (1938 – 1998) был прежде всего пушкинистом. У него есть статьи и о Тютчеве, и о Баратынском, и о Гоголе (одну из них мы скоро предоставим вашему вниманию), но в центре его мира всегда был Пушкин. Своему другу, Валентину Евгеньевичу Хализеву он писал, что заклинает себя постоянно думать о Пушкине: «В нем и спасение наше, и исход».

Пушкинистика всегда была в литературоведении особой, элитарной сферой. Она предполагала риск и ответственность: не только потому, что предметом постижения становилось совершенное явление в литературе. Но и потому, что в Пушкине виделось большее. Всеволод Алексеевич сказал бы – истина, необходимая для жизни. Он не стеснялся высоких слов, они были для него необходимы и органичны, и язык его статей и книг, который нередко кажется усложненным, был тем же путем постижения: чтобы понять Пушкина, необходимо было выработать тот язык, который позволил бы приблизиться к нему. В Пушкине Всеволоду Алексеевичу виделось преодоление смуты, обретение гармонии, а пушкинистика была тем способом, благодаря которому можно было совпасть с пушкинским духом, подняться на пушкинскую высоту.
Для каждого, кто хоть раз слушал лекции Всеволода Алексеевича, было очевидно их главное свойство – ощущение сопричастности тому, о чем он говорил. Мы предлагаем вашему вниманию одну из последних статей В.А. Грехнёва. Она была опубликована в «Болдинских чтениях» 1995 года.
Автор текста: Мария Марковна Гельфонд
Автор иллюстрации: Ольга Вдовина
В.А. Грехнёв
«САМОСТОЯНЬЕ СВОБОДЫ»
(«Из Пиндемонти» Пушкина)
На последней черте бытия, в преддверии гибели, Пушкин создает стихотворение, которое по тональности и по смыслу, казалось бы, резко расходится с написанным в ту же пору «Памятником».
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода;
Зависеть от царя, зависеть от народа –
Не все ль равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи.
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно, в восторгах умиленья,
Вот счастье, вот права…
Все поражает здесь: неожиданно раздваивающаяся семантика свободы (на фоне того цельного смысла ее, который господствует в «Памятнике»), ядовитая ирония, соединенная здесь с лирико-патетическим возвещением как бы последнего символа веры. Впечатление такое, как будто вдруг вырвалось на волю в бесстрашном слове то, что давно созревало в душе, как окончательный расчет с миром и его земными кумирами (а среди них и кумир «внешней», социальной свободы). Кажется, предчувствие трагедии витает над этим лирическим высказыванием, предчувствие, освобождающее душу от всяких иллюзий и от всякого трепета перед завершающим суждением о мире. В «Памятнике» откроется некий духовный просвет, но это будет просвет личного жизненного итога, включенного в перспективу истории и сопряженного с освобождающей миссией искусства, то есть именно с тем, что в стихотворении «Из Пиндемонти» не подвергнуто сомнению. Мысль поэта перейдет в другое измерение смысла и в другую плоскость бытия, не снимая, однако, тех истин, которые воплощены в пушкинском «Не дорого ценю я громкие права…». В «Памятнике» перед нами не пересмотр тех универсалий («народ», «свобода»), которые попадают в стихотворении «Из Пиндемонти» в иронически отторгающий контекст, а лишь переакцентировка их смысловых граней. «Народ» в «Памятнике» уже не плебс, не толпа, а оплот духовного единства национальной истории и хранитель ее культурных святынь. «Свобода» уже не социально-гетерономная реальность, шатким «гарантом» которой выступает «право», а состояние духа, слившееся с состраданием, поставленное в нераздельный смысловой ряд с понятием «милость» и, стало быть, не зависящее от формы социального мироустройства. Полнота, сложность и драматизм пушкинской мысли на роковой, замыкающей (или, точней, обрывающей) черте ее движения ускользнут от нас, если мы будем судить о ней лишь по «Памятнику», не замечая его противоречиво нераздельного сопряжения с «каменноостровским» циклом и, в особенности, со стихотворением «Из Пиндемонти».
Но прежде о пушкинской отсылке к имени итальянского поэта. Действительно ли она не более чем «мистификация из цензурных соображений», как полагали Томашевский и Измайлов1. Если бы это было так, то для шифрующей цели мог бы пригодиться и первоначальный заголовок «Из Alfred Musset». Однако Пушкин отверг его несмотря на то, что за завесою скандальной европейской известности Альфреда Мюссе было бы, вероятно, надежнее упрятать сокрушительную силу сарказма. Остается предположить, что выбор имени Ипполито Пиндемонте был не случаен и питался не одной лишь памятью о впечатлениях, которые вынес о нем Пушкин из книги Сисмонди, прочитанной еще в молодости. Выплеснувшаяся в этом стихотворении ирония по адресу политических «благоприобретений» демократии побуждает предположить, что Пушкину была известна, хотя бы в самых общих очертаниях, судьба Ипполито Пиндемонте, так резко контрастирующая с судьбой его брата Джованни, тоже поэта. В отличие от Джованни, слепо и неколебимо утвердившегося на идеях французского просветительства и буржуазной революции, Ипполито Пиндемонте пережил и болезненный кризис веры: надежды, возлагаемые им на революционную ломку мира (поэма «Франция»), рассеялись, сменившись отвращением к самодовольно пошлым и прозаическим очертаниям буржуазной реальности. Оставалось вернуться к природе, воспринятой на руссоистский лад, в качестве антитезы цивилизации («Сельские песни»). Что Пушкин знал об этом перепаде мироощущения Пиндемонте, убеждает выбор цитаты из итальянского поэта (хотя бы и почерпнутой у Сисмонди), избранной в качестве чернового эпиграфа к поэме «Кавказский пленник», поэме, в которой естественный мир противостоит «неволе душных городов». Да ведь и в стихотворении «Из Пиндемонти» природное начало бытия по-прежнему неотразимо притягательно для Пушкина на фоне искусственной и лицемерной цивилизации. Итак, не очевидно ли, что выбор имени Пиндемонте, пусть в качестве прикрытия, вовсе не художнический каприз и не одна лишь дань внешним обстоятельствам. Пушкин вообще любил настраивать свое воображение на чью-нибудь поэтическую струну, звучащую хотя бы отчасти в унисон его замыслу, отчего, разумеется, нисколько не страдают оригинальность и глубина его мысли.
Социальный мир, с гневом и болью отвергаемый Пушкиным в стихотворении «Из Пиндемонти», неоднороден в том смысле, что он соединяет в себе приметы разных социальных структур: сигналы буржуазно-демократического миропорядка совмещены здесь с атрибутами монархии. Никакого сопоставления «двух систем управления – самодержавной и парламентской», о котором писал Томашевский2, здесь нет и в помине. И то и другое как бы интегрировано в единый образ извращенной цивилизации. История схвачена в состоянии такого глобального излома (подавление культуры цивилизацией), в свете которого смена формаций лишь частный момент рокового и перекрывающего его по масштабам духовного процесса. Это ненавистный Пушкину «век железный – век-торгаш», век как синоним «другого летоисчисления», «новой эры», первые признаки которой Пушкин отчетливо видел и в России на фоне, казалось бы, прочного самодержавного уклада (притеснения старого родового дворянства, «торговая словесность», беззастенчивая разнузданность газетно-журнальной прессы, фетишизация пользы, неуважение к таланту). Демократия – лишь маскирующее прикрытие этого нового миропорядка, забывшего о святынях и природных устоях бытия. Она своего рода – «социальный театр», на подмостках которого изображается якобы вся полнота свободы, но изображающие ее «актеры» прекрасно знают о ее пределах. И это не пределы, поставленные совестью или этикой религии, а лишь гетерономные пределы, закрепленные гуттаперчевыми «правами». «Права», «налоги», «свободная печать», «морочащая олухов» (в том числе и собственной фиктивной свободой) – таковы у Пушкина сигналы этого маскарадного социума, которому изначально сопутствует подмена. Недаром Пушкин замыкает саркастическое обозрение демократических «свобод» гамлетовской репликой «Слова, слова, слова…». «Слова» в этой грядущей на смену культуре цивилизации оторвались от сути, превратившись в призрачную оболочку, уже не столько обозначающую, сколько вуалирующую тот круг понятий и ценностей («свобода», «право» и т.д.), в котором и совершилась подмена. Но коварство такого суетливо-неиссякающего «разглагольствования», сопутствующего новому порядку вещей (позднее Кьеркегор увидит в «разглагольствовании» один из опорных принципов буржуазного мироустройства), заключается в том, что, манипулируя фикциями, оно всеми силами старается создать впечатление, будто имеет дело с истиной. Мир, отторгаемый Пушкиным в стихотворении «Из Пиндемонти», это мир обезбоженной свободы, которая не что иное, как свобода пустоты, столь же абсурдная, как и породившая ее социальная зависимость.
Дерзкое и даже кощунственное, на первый взгляд, пушкинское вопрошение-ответ «Зависеть от царя, зависеть от народа? – Не все ль равно», (в черновике было «зависеть от властей») знаменует, в сущности, новую шкалу зависимостей, широко раздвинутую цивилизацией. Личность теперь оказывается между Сциллой и Харибдой: между гнетом властей, разыгрывающих «спектакль свободы» и недовольством демоса, недовольством, устремленным не столько к власти, сколько к личности, не разделяющей стадных страстей. Еще раз напомним, что пушкинский «народ» в стихотворении «Из Пиндемонти» — отнюдь не синоним социальных низов и не хранитель духовных ценностей как в «Памятнике», а именно «демос» в том значении этого понятия, которое родилось в пору древнегреческой, афинской демократии. Это одновременно и игрушка властей, и амбициозная толпа, амбициями которой искусно дирижируют сильные мира сего. Вообще понятие народ внутренне расчленено у Пушкина и ничего общего не имеет с тем единообразием смысла, которое надолго закрепили за ним радикальные разночинцы и народники (народ как сословное целое). Интеллигентское кумиротворчество, вырастающее на обожествлении социальных низов, Пушкину было несвойственно. Бог для него реет везде: и в личности, и в народе, и над верхами, и над низами социальной лестницы, но лишь там, где истины готовы принять.
Словами Гамлета Пушкин подводит черту под той цепью отрицаний, которая заключает в себе перечень ложных и лицемерных проявлений свободы в мире цивилизации. Следующий далее виток пушкинской мысли начинается с обобщающего утверждения («Иные, лучшие, мне дороги права; Иная, лучшая потребна мне свобода»), раскрывая которое, Пушкин раскрывает и собственный идеал свободы. Писавшие о нем, видимо, чувствовали в пушкинской лирической декларации как бы нечто сомнительное. Так, если Измайлов пытался размежевать пушкинское представление о свободе с крамолою «анархического индивидуализма»3, некстати ссылаясь на тяжелое состояние поэта в эту пору, то это означает, что нечто крамольное все-таки чудилось ему в стихотворении «Из Пиндемонти». Смущало, видимо, личностное начало в пушкинском представлении о свободе, отсутствие той универсальности, в сущности, мнимой, которая должна сопутствовать свободе, воспринятой как гетерономный принцип или как идеальное состояние социума. Но как раз это-то представление о ней в стихотворении «Из Пиндемонти» занимает Пушкина менее всего.
По Пушкину есть один незыблемый оплот свободы, покоящийся в глубине человеческого духа. В нем заключено нечто такое, на что личность может опереться в любые времена, под тягчайшим давлением истории. Это «лучшая свобода», именно потому, что она являет собой голос человеческого достоинства, суверенного и самоценного, не зависящего от гнета обстоятельств. Перед лицом ее меркнут все соблазны, все обольщения стадной цивилизации с ее мнимой свободой, лишь умножающей формы зависимости («для власти, для ливреи / Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи…»). Пушкинская «свобода» в стихотворении «Из Пиндемонти» размыкает сознание личности в мир природы и культуры, то есть в тот именно мир, который противостоит извращенному социуму, в тот мир, на котором вечно сохраняется отпечаток божества:
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно, в восторгах умиленья,
Вот счастье, вот права…
В контексте «каменноостровского» цикла, в соседстве с такими стихотворениями, как «Мирская власть», «Отцы пустынники и жены непорочны…» пушкинский эпитет «божественным» — не просто знак совершенства. Он обозначение высшей силы, энергия которой пульсирует в живой ткани природы и в творениях человеческого гения. И то, и другое овеяны дыханьем божества. Стало быть, личность у Пушкина, опираясь на себя, лишь в той степени суверенна, в какой она опирается на заключенную в ее природе неустранимую потребность в святыне, предохраняющей ее свободу от опустошающего разгула ложных страстей и от силков, расставленных цивилизацией, отпавшей от божества. Такая свобода нимало не скомпрометирована «прихотью» души («По прихоти своей скитаться здесь и там»), и «прихоть» как форма ее проявления отнюдь не эгоистическое своеволие, поскольку устремлена она именно в те сферы (природа, культура), где ей не угрожают уже никакие подмены. Это влечение наивной души, как точно выразился С. А. Фомичев4, которая и есть душа поэта, ничего не взвешивающая заранее, не стесненная никакими рационалистическими оковами, но чутко вслушивающаяся в зов собственной природы:
…Таков поэт, как Аквилон,
Что хочет, то и носит он…
Пушкинская «прихоть» в стихотворении «Из Пиндемонти», в сущности, обозначение нераздельного слияния вольного, не скованного ничем, во всяком случае ничем, идущим из социума, порыва души с неосязаемо направляющей волею Божества. Такую свободу не замкнуть рамками социальной реальности, ее трудно смутить и перепадами времени: она всегда распахнута в большой мир.
Пушкинский идеал – идеал личностный, этим-то он и отличается от ценностных абстракций новоявленной «свободы», бездушие которых – оборотная сторона их анонимности, Но это потому и идеал, что в глубине его личностного содержания проступают всеобщие начала, укорененные в живых и неуничтожимых потребностях сердца. В полноте самозабвения перед лицом святыни личность только и способна обрести себя, такой самоотказ ее и есть возвращение к себе. Впервые у Пушкина сливаются в идеальном единстве свобода и счастье, разобщенные и отрицающие друг друга в стихотворении «Пора, мой друг, пора…». Пушкинская «свобода» в стихотворении «Из Пиндемонти» — свобода мужества, ибо она держит в поле зрения все несовершенства человеческого бытия и фатальные изъяны социального миропорядка. Но это не то мужество, на которое опирался героический стоицизм в духе Марка Аврелия, оно не стремится принести в жертву своему «самостоянью» ни вольную прихоть души, ни ее поэтическую наивность, ни жажду счастья. О том, насколько далека была такая свобода от пушкинской судьбы, пребывающей в эту пору на пороге трагедии, здесь не имеет смысла рассуждать. Все это уже за гранью пушкинского стихотворения, в котором речь идет об идеале и ни о чем более. Ясно только, что тоска по иному, совершенному бытию у Пушкина многократно возрастает в преддверии гибели. И, может быть, самый порыв к подобной свободе, порыв, тоскующе страстный, только и возможен на последней черте, ибо очевидно ведь, что эта свобода уже «не от мира сего».
Источник: Грехнёв В.А. «Самостоянье» свободы («Из Пиндемонти» Пушкина) // Болдинские чтения. Нижний Новгород, 1995, с. 90-96.
Примечания
- Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Изд-во АН СССР. Т. 3. М., 1963, с. 528. Измайлов Н.В. Очерки творчества Пушкина. Л.: Наука, 1975. С. 255
- Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Изд-во АН СССР. Т. 3 М., 1963, с. 528
- Измайлов Н.В. Очерки творчества Пушкина. Л.: Наука, 1975. С. 255
- Фомичев С. А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л.: Наука, 1986, с.276

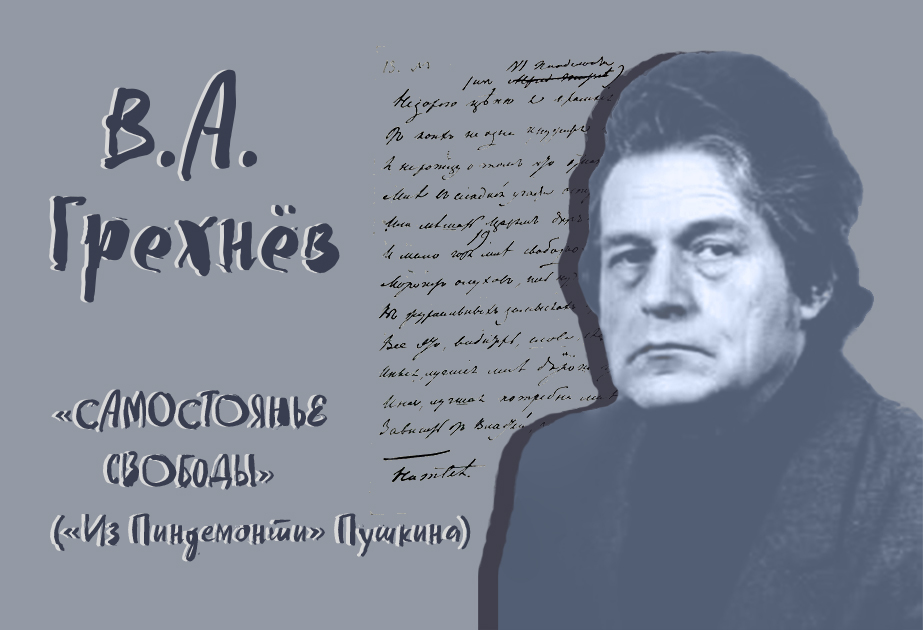
No responses yet